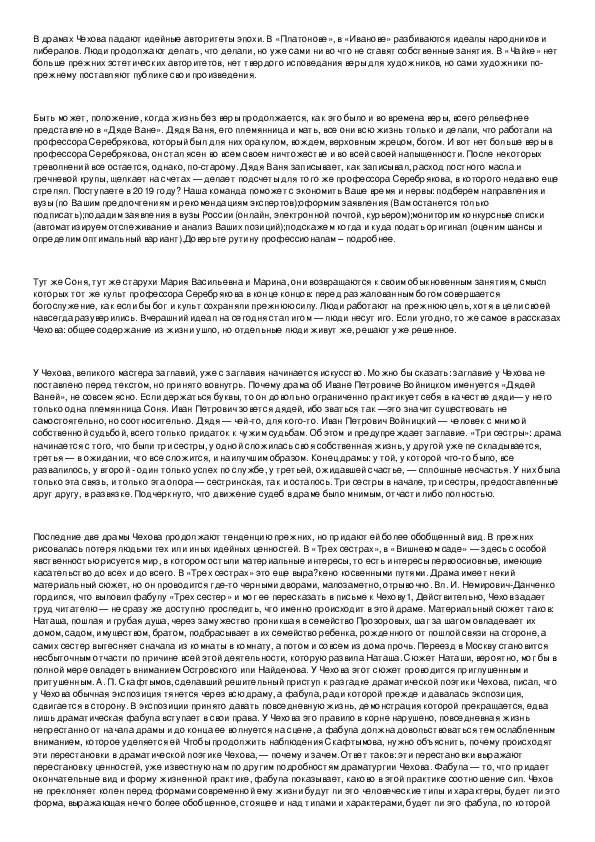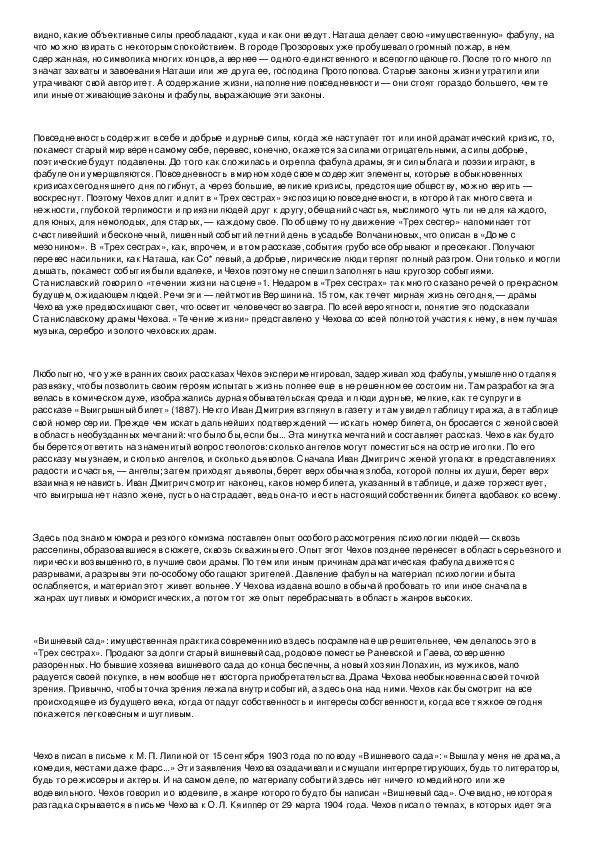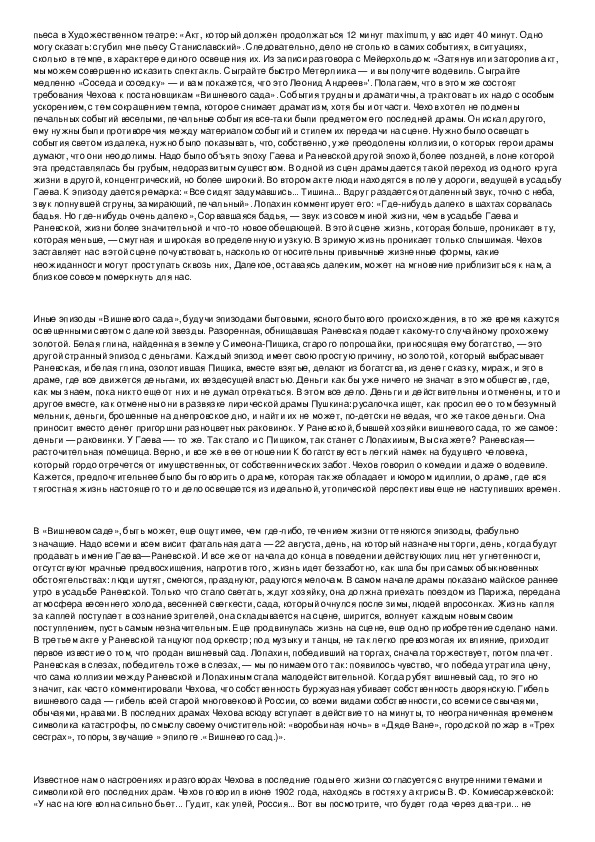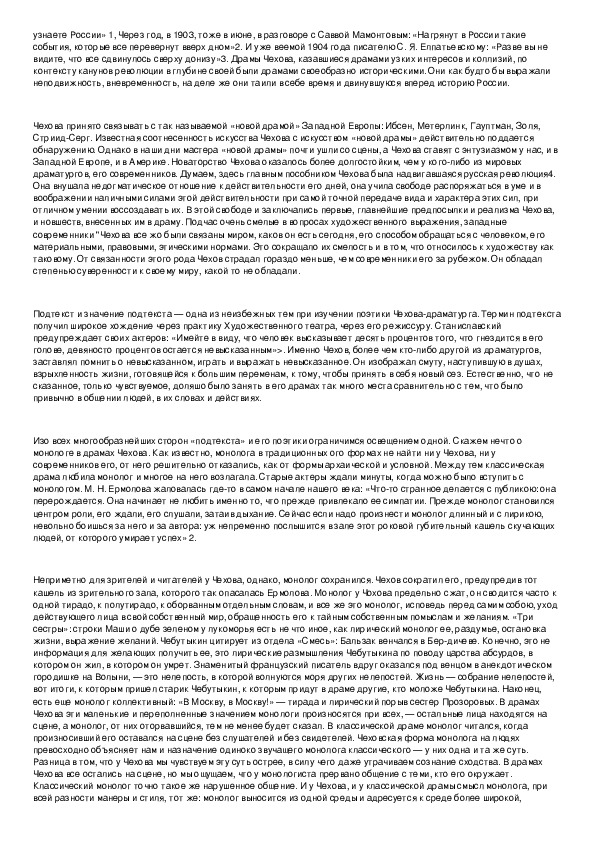О Чехове и его рассказах, повестях и пьесах
Здесь Вы можете ознакомиться и скачать О Чехове и его рассказах, повестях и пьесах.
Если материал и наш сайт сочинений Вам понравились - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок!В драмах Чехова падают идейные авторитеты эпохи. В «Платонове», в «Иванове» разбиваются идеалы народников и либералов. Люди продолжают делать, что делали, но уже сами ни во что не ставят собственные занятия. В «Чайке» нет больше прежних эстетических авторитетов, нет твердого исповедания веры для художников, но сами художники по-прежнему поставляют публике свои произведения.
Быть может, положение, когда жизнь без веры продолжается, как это было и во времена веры, всего рельефнее представлено в «Дяде Ване». Дядя Ваня, его племянница и мать, все они всю жизнь только и делали, что работали на профессора Серебрякова, который был для них оракулом, вождем, верховным жрецом, богом. И вот нет больше веры в профессора Серебрякова, он стал ясен во всем своем ничтожестве и во всей своей напыщенности. После некоторых треволнений все остается, однако, по-старому. Дядя Ваня записывает, как записывал, расход постного масла и гречневой крупы, щелкает на счетах — делает подсчеты для того же профессора Серебрякова, в которого недавно еще стрелял. Поступаете в 2019 году? Наша команда поможет с экономить Ваше время и нервы: подберем направления и вузы (по Вашим предпочтениям и рекомендациям экспертов);оформим заявления (Вам останется только подписать);подадим заявления в вузы России (онлайн, электронной почтой, курьером);мониторим конкурсные списки (автоматизируем отслеживание и анализ Ваших позиций);подскажем когда и куда подать оригинал (оценим шансы и определим оптимальный вариант).Доверьте рутину профессионалам – подробнее.
Тут же Соня, тут же старухи Мария Васильевна и Марина, они возвращаются к своим обыкновенным занятиям, смысл которых тот же культ профессора Серебрякова в конце концов: перед разжалованным богом совершается богослужение, как если бы бог и культ сохраняли прежнюю силу. Люди работают на прежнюю цель, хотя в цели своей навсегда разуверились. Вчерашний идеал на сегодня стал игом — люди несут иго. Если угодно, то же самое в рассказах Чехова: общее содержание из жизни ушло, но отдельные люди живут же, решают уже решенное.
У Чехова, великого мастера заглавий, уже с заглавия начинается искусство. Можно бы сказать: заглавие у Чехова не поставлено перед текстом, но принято вовнутрь. Почему драма об Иване Петровиче Войницком именуется «Дядей Ваней», не совсем ясно. Если держаться буквы, то он довольно ограниченно практикует себя в качестве дяди— у него только одна племянница Соня. Иван Петрович зовется дядей, ибо зваться так —это значит существовать не самостоятельно, но соотносительно. Дядя — чей-то, для кого-то. Иван Петрович Войницкий — человек с мнимой собственной судьбой, всего только придаток к чужим судьбам. Об этом и предупреждает заглавие. «Три сестры»: драма начинается с того, что были три сестры, у одной сложилась своя собственная жизнь, у другой уже пе складывается, третья — в ожидании, что все сложится, и наилучшим образом. Конец драмы: у той, у которой что-то было, все развалилось, у второй - один только успех по службе, у третьей, ожидавшей счастье, — сплошные несчастья. У них была только эта связь, и только эта опора — сестринская, так и осталось. Три сестры в начале, три сестры, предоставленные друг другу, в развязке. Подчеркнуто, что движение судеб в драме было мнимым, отчасти либо полностью.
Последние две драмы Чехова продолжают тенденцию прежних, но придают ей более обобщенный вид. В прежних рисовалась потеря людьми тех или иных идейных ценностей. В «Трех сестрах», в «Вишневом саде» — здесь с особой явственностью рисуется мир, в котором остыли материальные интересы, то есть интересы первоосиовные, имеющие касательство до всех и до всего. В «Трех сестрах» это еще выра?кено косвенными путями. Драма имеет некий материальный сюжет, но он проводится где-то черными дворами, малозаметно, отрывочно. Вл. И. Немирович-Данченко гордился, что выловил фабулу «Трех сестер» и мог ее пересказать в письме к Чехову1, Действительно, Чехов задает труд читателю — не сразу же доступно проследить, что именно происходит в этой драме. Материальный сюжет таков: Наташа, пошлая и грубая душа, через замужество проникшая в семейство Прозоровых, шаг за шагом овладевает их домом, садом, имуществом, братом, подбрасывает в их семейство ребенка, рожденного от пошлой связи на стороне, а самих сестер вытесняет сначала из комнаты в комнату, а потом и совсем из дома прочь. Переезд в Москву становится несбыточным отчасти по причине всей этой деятельности, которую развила Наташа. Сюжет Наташи, вероятно, мог бы в полной мере овладеть вниманием Островского или Найденова. У Чехова этот сюжет проводится приглушенным и притушенным. А. П. Скафтымов, сделавший решительный приступ к разгадке драматической поэтики Чехова, писал, что у Чехова обычная экспозиция тянется через всю драму, а фабула, ради которой прежде и давалась экспозиция, сдвигается в сторону. В экспозиции принято давать повседневную жизнь, демонстрация которой прекращается, едва лишь драматическая фабула вступает в свои права. У Чехова это правило в корне нарушено, повседневная жизнь непрестанно от начала драмы и до конца ее волнуется на сцене, а фабула должна довольствоваться тем ослабленным вниманием, которое уделяется ей Чтобы продолжить наблюдения Скафтымова, нужно объяснить, почему происходят эти перестановки в драматической поэтике Чехова, — почему и зачем. Ответ таков: эти перестановки выражают перестановку ценностей, уже известную нам по другим подробностям драматургии Чехова. Фабула — то, что придает окончательные вид и форму жизненной практике, фабула показывает, каково в этой практике соотношение сил. Чехов не преклоняет колен перед формами современной ему жизни будут ли это человеческие типы и характеры, будет ли это форма, выражающая нечто более обобщенное, стоящее и над типами и характерами, будет ли это фабула, по которой видно, какие объективные силы преобладают, куда и как они ведут. Наташа делает свою «имущественную» фабулу, на что можно взирать с некоторым спокойствием. В городе Прозоровых уже пробушевал огромный пожар, в нем сдержанная, но символика многих концов, а вернее — одного-единственного и всепоглощающего. После того много лп значат захваты и завоевания Наташи или же друга ее, господина Протопопова. Старые законы жизни утратили или утрачивают свой авторитет. А содержание жизни, наполнение повседневности — они стоят гораздо большего, чем те или иные отживающие законы и фабулы, выражающие эти законы.
Повседневность содержит в себе и добрые и дурные силы, когда же наступает тот или иной драматический кризис, то, покамест старый мир верен самому себе, перевес, конечно, окажется за силами отрицательными, а силы добрые, поэтические будут подавлены. До того как сложилась и окрепла фабула драмы, эти силы блага и поэзии играют, в фабуле они умерщвляются. Повседневность в мирном ходе своем содержит элементы, которые в обыкновенных кризисах сегодняшнего дня погибнут, а через большие, великие кризисы, предстоящие обществу, можно верить — воскреснут. Поэтому Чехов длит и длит в «Трех сестрах» экспозицию повседневности, в которой так много света и нежности, глубокой терпимости и приязни людей друг к другу, обещаний счастья, мыслимого чуть ли не для каждого, для юных, для немолодых, для старых, — каждому свое. По общему тону движение «Трех сестер» напоминает тот счастливейший и бесконечный, лишенный событий летний день в усадьбе Волчаниновых, что описан в «Доме с мезонином». В «Трех сестрах», как, впрочем, и в том рассказе, события грубо все обрывают и пресекают. Получают перевес насильники, как Наташа, как Со* левый, а добрые, лирические люди терпят полный разгром. Они только и могли дышать, покамест события были вдалеке, и Чехов поэтому не спешил заполнять наш кругозор событиями. Станиславский говорил о «течении жизни на сцене»1. Недаром в «Трех сестрах» так много сказано речей о прекрасном будущем, ожидающем людей. Речи эти — лейтмотив Вершинина. 15 том, как течет мирная жизнь сегодня, — драмы Чехова уже предвосхищают свет, что осветит человечество завтра. По всей вероятности, понятие это подсказали Станиславскому драмы Чехова. «Течение жизни» представлено у Чехова со всей полнотой участия к нему, в нем лучшая музыка, серебро и золото чеховских драм.
Любопытно, что уже в ранних своих рассказах Чехов экспериментировал, задерживал ход фабулы, умышленно отдаляя развязку, чтобы позволить своим героям испытать жизнь полнее еще в не решенном ее состоим ни. Там разработка эта велась в комическом духе, изображались дурная обывательская среда и люди дурные, мелкие, как те супруги в рассказе «Выигрышный билет» (1887). Некто Иван Дмитрия взглянул в газету и там увидел таблицу тиража, а в таблице свой номер серии. Прежде чем искать дальнейших подтверждений — искать номер билета, он бросается с женой своей в область необузданных мечтаний: что было бы, если бы... Эта минутка мечтаний и составляет рассказ. Чехов как будто бы берется ответить на знаменитый вопрос теологов: сколько ангелов могут поместиться на острие иголки. По его рассказу мы узнаем, и сколько ангелов, и сколько дьяволов. Сначала Иван Дмитрич с женой утопают в представлениях радости и счастья, — ангелы; затем приходят дьяволы, берет верх обычная злоба, которой полны их души, берет верх взаимная ненависть. Иван Дмитрич смотрит наконец, каков номер билета, указанный в таблице, и даже торжествует, что выигрыша нет назло жене, пусть она страдает, ведь она-то и есть настоящий собственник билета вдобавок ко всему.
Здесь под знаком юмора и резкого комизма поставлен опыт особого рассмотрения психологии людей — сквозь расселины, образовавшиеся в сюжете, сквозь скважины его. Опыт этот Чехов позднее перенесет в область серьезного и лирически возвышенного, в лучшие свои драмы. По тем или иным причинам драматическая фабула движется с разрывами, а разрывы эти по-особому обогащают зрителей. Давление фабулы на материал психологии и быта ослабляется, и материал этот живет вольнее. У Чехова издавна вошло в обычай пробовать то или иное сначала в жанрах шутливых и юмористических, а потом тот же опыт перебрасывать в область жанров высоких.
«Вишневый сад»: имущественная практика современников здесь посрамлена еще решительнее, чем делалось это в «Трех сестрах». Продают за долги старый вишневый сад, родовое поместье Раневской и Гаева, совершенно разоренных. Но бывшие хозяева вишневого сада до конца беспечны, а новый хозяин Лопахин, из мужиков, мало радуется своей покупке, в нем вообще нет восторга приобретательства. Драма Чехова необыкновенна своей точкой зрения. Привычно, чтобы точка зрения лежала внутри событий, а здесь она над ними. Чехов как бы смотрит на все происходящее из будущего века, когда отпадут собственность и интересы собственности, когда все тяжкое сегодня покажется легковесным и шутливым.
Чехов писал в письме к М. П. Лилиной от 15 сентября 1903 года по поводу «Вишневого сада»: «Вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс...» Эти заявления Чехова озадачивали и смущали интерпретирующих, будь то литераторы, будь то режиссеры и актеры. И на самом деле, по материалу событий здесь нет ничего комедийного или же водевильного. Чехов говорил и о водевиле, в жанре которого будто бы написан «Вишневый сад». Очевидно, некоторая разгадка скрывается в письме Чехова к О. Л. Кяиппер от 29 марта 1904 года. Чехов писал о темпах, в которых идет эта пьеса в Художественном театре: «Акт, который должен продолжаться 12 минут maximum, у вас идет 40 минут. Одно могу сказать: сгубил мне пьесу Станиславский». Следовательно, дело не столько в самих событиях, в ситуациях, сколько в темпе, в характере единого освещения их. Из записи разговора с Мейерхольдом: «Затянув или заторопив акт, мы можем совершенно исказить спектакль. Сыграйте быстро Метерлиика — и вы получите водевиль. Сыграйте медленно «Соседа и соседку» — и вам покажется, что это Леонид Андреев»'. Полагаем, что в этом же состоят требования Чехова к постановщикам «Вишневого сада». События трудны и драматичны, а трактовать их надо с особым ускорением, с тем сокращением темпа, которое снимает драматизм, хотя бы и отчасти. Чехов хотел не подмены печальных событий веселыми, печальные события все-таки были предметом его последней драмы. Он искал другого, ему нужны были противоречия между материалом событий и стилем их передачи на сцене. Нужно было освещать события светом издалека, нужно было показывать, что, собственно, уже преодолены коллизии, о которых герои драмы думают, что они неодолимы. Надо было объять эпоху Гаева и Раневской другой эпохой, более поздней, в лоне которой эта представлялась бы грубым, недоразвитым существом. В одной из сцен драмы дается такой переход из одного круга жизни в другой, концентрический, но более широкий. Во втором акте люди находятся в поле у дороги, ведущей в усадьбу Гаева. К эпизоду дается ремарка: «Все сидят задумавшись... Тишина... Вдруг раздается отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный». Лопахин комментирует его: «Где-нибудь далеко в шахтах сорвалась бадья. Но где-нибудь очень далеко», Сорвавшаяся бадья, — звук из совсем иной жизни, чем в усадьбе Гаева и Раневской, жизни более значительной и что-то новое обещающей. В этой сцене жизнь, которая больше, проникает в ту, которая меньше, — смутная и широкая в определенную и узкую. В зримую жизнь проникает только слышимая. Чехов заставляет нас в этой сцене почувствовать, насколько относительны привычные жизненные формы, какие неожиданности могут проступать сквозь них, Далекое, оставаясь далеким, может на мгновение приблизиться к нам, а близкое совсем померкнуть для нас.
Иные эпизоды «Вишневого сада», будучи эпизодами бытовыми, ясного бытового происхождения, в то же время кажутся освещенными светом с далекой звезды. Разоренная, обнищавшая Раневская подает какому-то случайному прохожему золотой. Белая глина, найденная в земле у Симеона-Пищика, старого попрошайки, приносящая ему богатство, — это другой странный эпизод с деньгами. Каждый эпизод имеет свою простую причину, но золотой, который выбрасывает Раневская, и белая глина, озолотившая Пищика, вместе взятые, делают из богатства, из денег сказку, мираж, и это в драме, где все движется деньгами, их вездесущей властью. Деньги как бы уже ничего не значат в этом обществе, где, как мы знаем, пока никто еще от них и не думал отрекаться. В этом все дело. Деньги и действительны и отменены, и то и другое вместе, как отменены они в развязке лирической драмы Пушкина: русалочка ищет, как просил ее о том безумный мельник, деньги, брошенные на днепровское дно, и найти их не может, по-детски не ведая, что же такое деньги. Она приносит вместо денег пригоршни разноцветных раковинок. У Раневской, бывшей хозяйки вишневого сада, то же самое: деньги — раковинки. У Гаева —- то же. Так стало и с Пищиком, так станет с Лопахииым, Вы скажете? Раневская— расточительная помещица. Верно, и все же в ее отношении К богатству есть легкий намек на будущего человека, который гордо отречется от имущественных, от собственнических забот. Чехов говорил о комедии и даже о водевиле. Кажется, предпочтительнее было бы говорить о драме, которая также обладает и юмором идиллии, о драме, где вся тягостная жизнь настоящего то и дело освещается из идеальной, утопической перспективы еще не наступивших времен.
В «Вишневом саде», быть может, еще ощутимее, чем где-либо, течением жизни оттеняются эпизоды, фабульно значащие. Надо всеми и всем висит фатальная дата — 22 августа, день, на который назначены торги, день, когда будут продавать имение Гаева—Раневской. И все же от начала до конца в поведении действующих лиц нет угнетенности, отсутствуют мрачные предвосхищения, напротив того, жизнь идет беззаботно, как шла бы при самых обыкновенных обстоятельствах: люди шутят, смеются, празднуют, радуются мелочам. В самом начале драмы показано майское раннее утро в усадьбе Раневской. Только что стало светать, ждут хозяйку, она должна приехать поездом из Парижа, передана атмосфера весеннего холода, весенней свегкести, сада, который очнулся после зимы, людей впросонках. Жизнь капля за каплей поступает в сознание зрителей, она складывается на сцене, ширится, волнует каждым новым своим поступлением, пусть самым незначительным. Еще продвинулась жизнь на сцене, еще одно приобретение сделано нами. В третьем акте у Раневской танцуют под оркестр; под музыку и танцы, не так легко превозмогая их влияние, приходит первое известие о том, что продан вишневый сад. Лопахин, победивший на торгах, сначала торжествует, потом плачет. Раневская в слезах, победитель тоже в слезах, — мы понимаем ото так: появилось чувство, что победа утратила цену, что сама коллизии между Раневской и Лопахиным стала малодействительной. Когда рубят вишневый сад, то это но значит, как часто комментировали Чехова, что собственность буржуазная убивает собственность дворянскую. Гибель вишневого сада — гибель всей старой многовековой России, со всеми видами собственности, со всеми се свычаями, обычаями, нравами. В последних драмах Чехова всюду вступает в действие то на минуты, то неограниченная временем символика катастрофы, по смыслу своему очистительной: «воробьиная ночь» в «Дяде Ване», городской пожар в «Трех сестрах», топоры, звучащие » эпилоге .«Вишневого сад.)».
Известное нам о настроениях и разговорах Чехова в последние годы его жизни согласуется с внутренними темами и символикой его последних драм. Чехов говорил в июне 1902 года, находясь в гостях у актрисы В. Ф. Комиесаржевской: «У нас на юге волна сильно бьет... Гудит, как улей, Россия... Вот вы посмотрите, что будет года через два-три... не узнаете России» 1, Через год, в 1903, тоже в июне, в разговоре с Саввой Мамонтовым: «Нагрянут в России такие события, которые все перевернут вверх дном»2. И уже веемой 1904 года писателю С. Я. Елпатьевскому: «Разве вы не видите, что все сдвинулось сверху донизу»3. Драмы Чехова, казавшиеся драмами узких интересов и коллизий, по контексту канунов революции в глубине своей были драмами своеобразно историческими. Они как будто бы выражали неподвижность, вневременность, на деле же они таили в себе время и двинувшуюся вперед историю России.
Чехова принято связывать с так называемой «новой драмой» Западной Европы: Ибсен, Метерлинк, Гауптман, Золя, Стриид-Серг. Известная соотнесенность искусства Чехова с искусством «новой драмы» действительно поддается обнаружению. Однако в наши дни мастера «новой драмы» почти ушли со сцены, а Чехова ставят с энтузиазмом у нас, и в Западной Европе, и в Америке. Новаторство Чехова оказалось более долгостойким, чем у кого-либо из мировых драматургов, его современников. Думаем, здесь главным пособником Чехова была надвигавшаяся русская революция4. Она внушала недогматическое отношение к действительности его дней, она учила свободе распоряжаться в уме и в воображении наличными силами этой действительности при самой точной передаче вида и характера этих сил, при отличном умении воссоздавать их. В этой свободе и заключались первые, главнейшие предпосылки и реализма Чехова, и новшеств, внесенных им в драму. Подчас очень смелые в вопросах художественного выражения, западные современники "Чехова все жо были связаны миром, каков он есть сегодня, его способом обращаться с человеком, его материальными, правовыми, этическими нормами. Это сокращало их смелость и в том, что относилось к художеству как таковому. От связанности этого рода Чехов страдал гораздо меньше, чем современники его за рубежом. Он обладал степенью суверенности к своему миру, какой то не обладали.
Подтекст и значение подтекста — одна из неизбежных тем при изучении поэтики Чехова-драматурга. Термин подтекста получил широкое хождение через практику Художественного театра, через его режиссуру. Станиславский предупреждает своих актеров: «Имейте в виду, что человек высказывает десять процентов того, что гнездится в его голове, девяносто процентов остается невысказанным»>. Именно Чехов, более чем кто-либо другой из драматургов, заставлял помнить о невысказанном, играть и выражать невысказанное. Он изображал смуту, наступившую в душах, взрыхленность жизни, готовящейся к большим переменам, к тому, чтобы принять в себя новый сез. Естественно, что не сказанное, только чувствуемое, доляшо было занять в его драмах так много места сравнительно с тем, что было привычно в общении людей, в их словах и действиях.
Изо всех многообразнейших сторон «подтекста» и его поэтики ограничимся освещением одной. Скажем нечто о монологе в драмах Чехова. Как известно, монолога в традиционных ого формах не найти ни у Чехова, ни у современников его, от него решительно отказались, как от формы архаической и условной. Между тем классическая драма любила монолог и многое на него возлагала. Старые актеры ждали минуты, когда можно было вступить с монологом. М. Н. Ермолова жаловалась где-то в самом начале нашего века: «Что-то странное делается с публикою: она перерождается. Она начинает не любить именно то, что прежде привлекало ее симпатии. Прежде монолог становился центром роли, его ждали, его слушали, затаив дыхание. Сейчас если надо произнести монолог длинный и с лирикою, невольно боишься за него и за автора: уж непременно послышится в зале этот роковой губительный кашель скучающих людей, от которого умирает успех» 2.
Неприметно для зрителей и читателей у Чехова, однако, монолог сохранился. Чехов сократил его, предупредив тот кашель из зрительного зала, которого так опасалась Ермолова. Монолог у Чохова предельно сжат, он сводится часто к одной тирадо, к полутирадо, к оборванным отдельным словам, и все же это монолог, исповедь перед самим собою, уход действующего лица в свой собственный мир, обращенность его к тайным собственным помыслам и желаниям. «Три сестры»: строки Маши о дубе зеленом у лукоморья есть не что иное, как лирический монолог ее, раздумье, остановка жизни, выражение желаний. Чебутыкин цитирует из отдела «Смесь»: Бальзак венчался в Бер-дичеве. Конечно, это не информация для желающих получить ее, это лирические размышления Чебутыкина по поводу царства абсурдов, в котором он жил, в котором он умрет. Знаменитый французский писатель вдруг оказался под венцом в анекдотическом городишке на Волыни, — это нелепость, в которой волнуются моря других нелепостей. Жизнь — собрание нелепостей, вот итоги, к которым пришел старик Чебутыкин, к которым придут в драме другие, кто моложе Чебутыкина. Наконец, есть еще монолог коллективный: «В Москву, в Москву!» — тирада и лирический порыв сестер Прозоровых. В драмах Чехова эти маленькие и переполненные значением монологи произносятся при всех, — остальные лица находятся на сцене, а монолог, от них оторвавшийся, тем не менее будет сказал. В классической драме монолог читался, когда произносивший его оставался на сцене без слушателей и без свидетелей. Чеховская форма монолога на людях превосходно объясняет нам и назначение одиноко звучащего монолога классического — у них одна и та же суть. Разница в том, что у Чехова мы чувствуем эту суть острее, в силу чего даже утрачиваем сознание сходства. В драмах Чехова все остались на сцене, но мы ощущаем, что у монологиста прервано общение с теми, кто его окружает. Классический монолог точно такое же нарушенное общение. И у Чехова, и у классической драмы смысл монолога, при всей разности манеры и стиля, тот же: монолог выносится из одной среды и адресуется к среде более широкой, малоизвестной, а поэтому и более обнадеживающей; зрители — символ этой новой среды. И в классической драме, и в драме Чехова ради дальней среды отодвигается среда ближайшая, — у 'Чехова это делается более очевидным образом, чем в старой драме. В драмах Чехова, где так важно было обещать действующим лицам, что они найдут исход своим желаниям, что они когда-то приняты будут обновленным человечеством, еще существенней, чем в драме классической были общественные и моральные переброски, изменения адреса и направленности, создаваемые монологом. Поэтому монологи у Чехова на редкость выразительны, сколько можно оправдывают самих себя, В них не скрывается, чему и ради чего они служат. Монологи — речь, обращенная через головы сегодняшнего поколения к потомству, которое настанет со временем.
Полезный материал по теме: