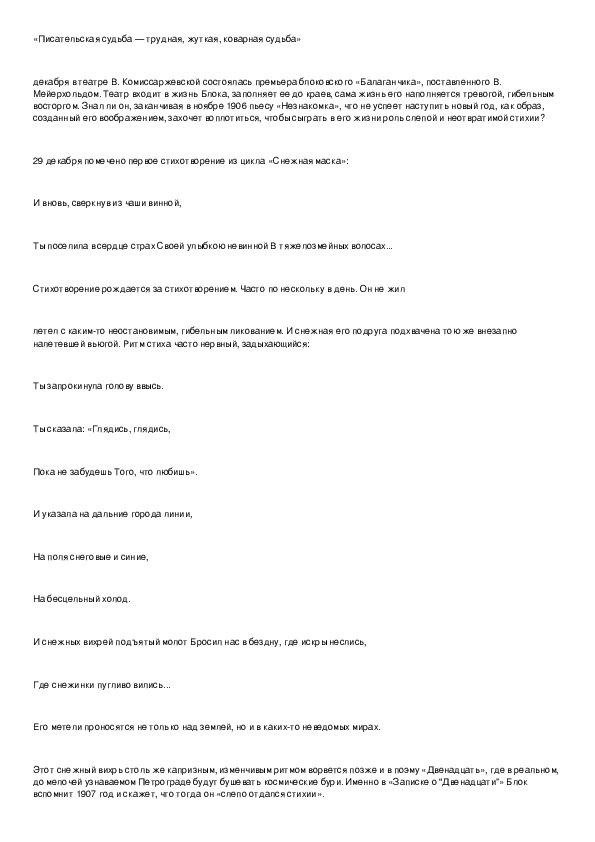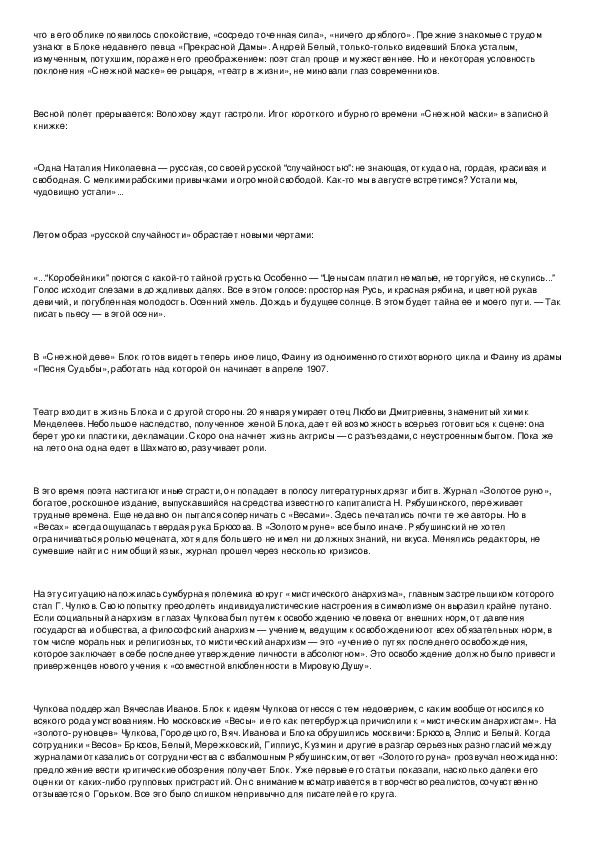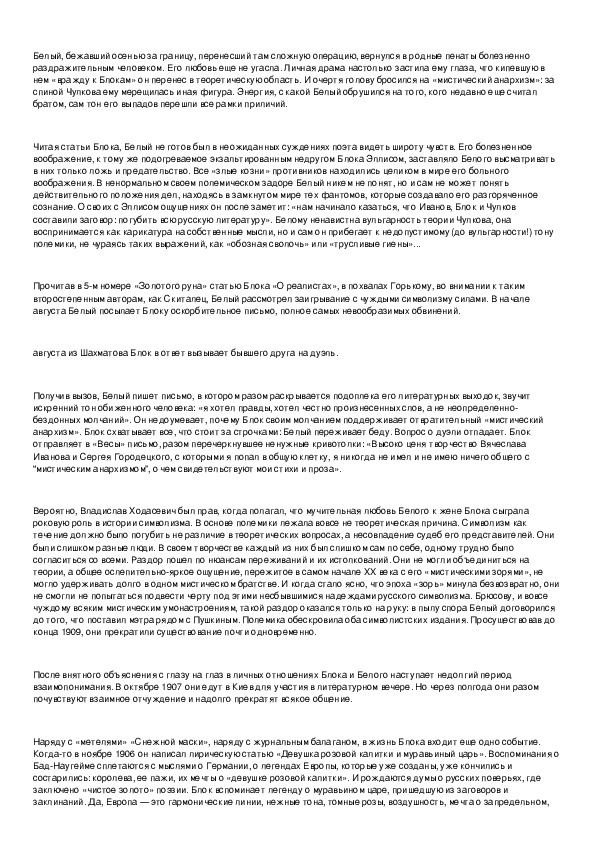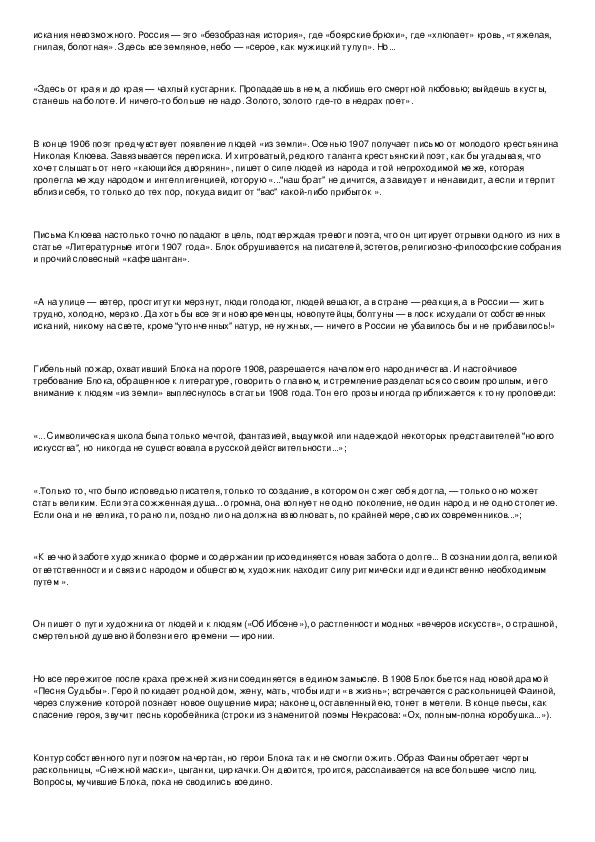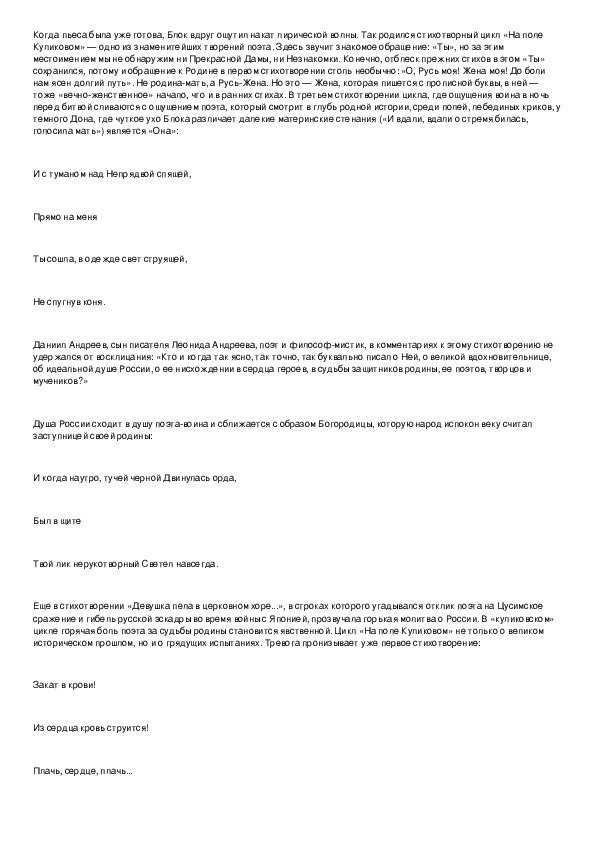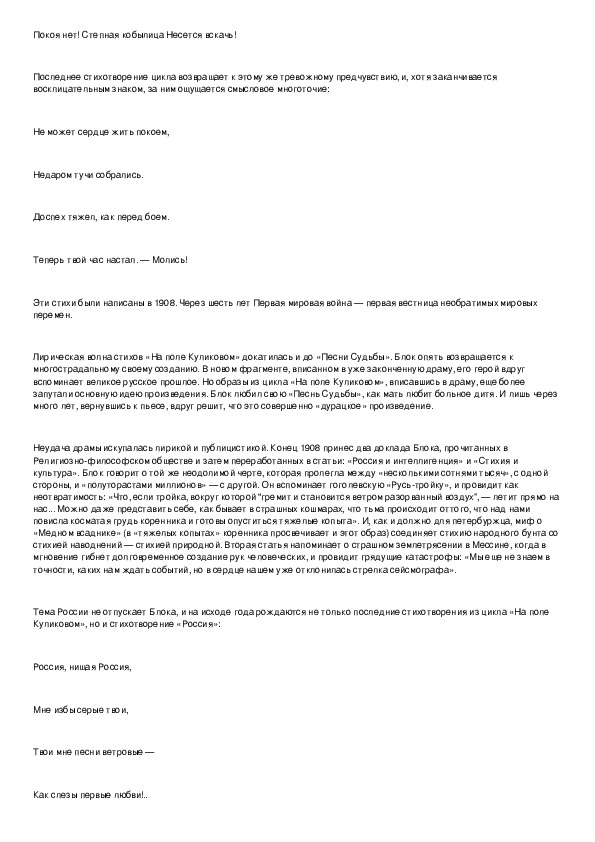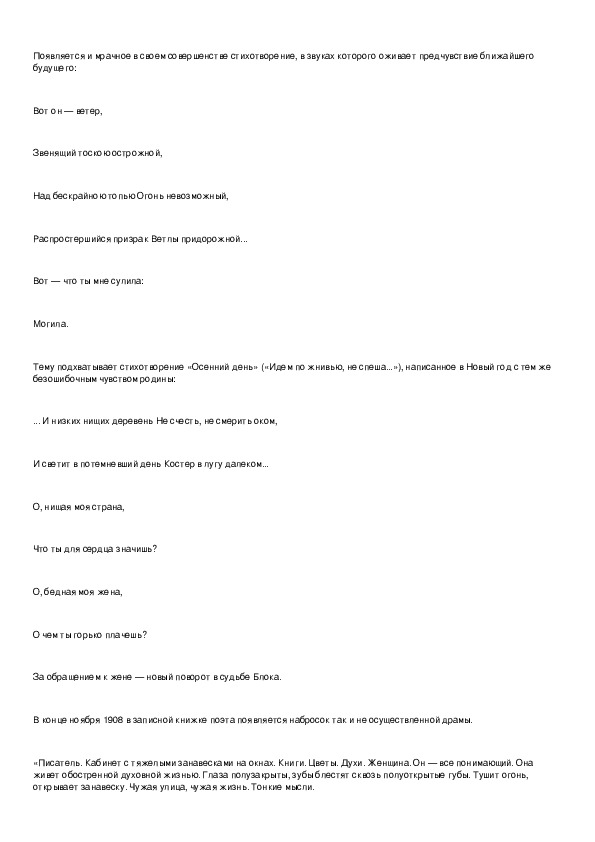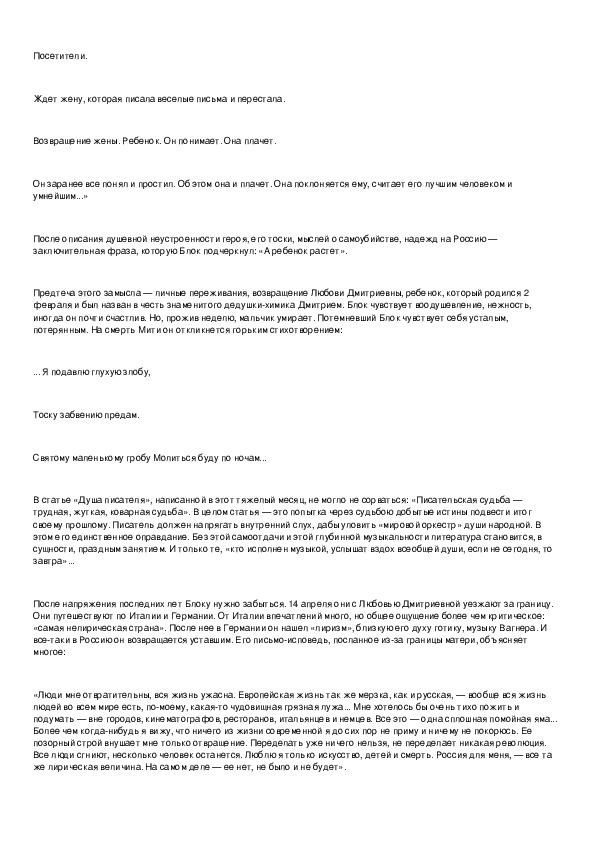Биография Блока судьба поэта
Здесь Вы можете ознакомиться и скачать Биография Блока судьба поэта.
Если материал и наш сайт сочинений Вам понравились - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок!«Писательская судьба — трудная, жуткая, коварная судьба»
декабря в театре В. Комиссаржевской состоялась премьера блоковского «Балаганчика», поставленного В. Мейерхольдом. Театр входит в жизнь Блока, заполняет ее до краев, сама жизнь его наполняется тревогой, гибельным восторгом. Знал ли он, заканчивая в ноябре 1906 пьесу «Незнакомка», что не успеет наступить новый год, как образ, созданный его воображением, захочет воплотиться, чтобы сыграть в его жизни роль слепой и неотвратимой стихии?
29 декабря помечено первое стихотворение из цикла «Снежная маска»:
И вновь, сверкнув из чаши винной,
Ты поселила в сердце страх Своей улыбкою невинной В тяжелозмейных волосах...
Стихотворение рождается за стихотворением. Часто по нескольку в день. Он не жил
летел с каким-то неостановимым, гибельным ликованием. И снежная его подруга подхвачена тою же внезапно налетевшей вьюгой. Ритм стиха часто нервный, задыхающийся:
Ты запрокинула голову ввысь.
Ты сказала: «Глядись, глядись,
Пока не забудешь Того, что любишь».
И указала на дальние города линии,
На поля снеговые и синие,
На бесцельный холод.
И снежных вихрей подъятый молот Бросил нас в бездну, где искры неслись,
Где снежинки пугливо вились...
Его метели проносятся не только над землей, но и в каких-то неведомых мирах.
Этот снежный вихрь столь же капризным, изменчивым ритмом ворвется позже и в поэму «Двенадцать», где в реальном, до мелочей узнаваемом Петрограде будут бушевать космические бури. Именно в «Записке о “Двенадцати”» Блок вспомнит 1907 год и скажет, что тогда он «слепо отдался стихии».
За полмесяца появятся на свет 30 стихотворений «Снежной маски». Цикл будет издан с посвящением: «...Тебе, высокая женщина в черном, с глазами крылатыми и влюбленными в огни и мглу моего снежного города».
Наталия Николаевна Волохова была актрисой театра В. Комиссаржевской. Тетка поэта М. Бекетова, вспоминая это время, писала:
«Скажу одно: поэт не прикрасил свою “снежную деву”. Поступаете в 2019 году? Наша команда поможет с экономить Ваше время и нервы: подберем направления и вузы (по Вашим предпочтениям и рекомендациям экспертов);оформим заявления (Вам останется только подписать);подадим заявления в вузы России (онлайн, электронной почтой, курьером);мониторим конкурсные списки (автоматизируем отслеживание и анализ Ваших позиций);подскажем когда и куда подать оригинал (оценим шансы и определим оптимальный вариант).Доверьте рутину профессионалам – подробнее.
Кто видел ее тогда, в пору его увлечения, тот знает, как она была дивно обаятельна. Высокий, тонкий стан, бледное лицо, тонкие черты, черные волосы и глаза, именно “крылатые”, черные, широко открытые “маки злых очей”. И еще поразительнее была улыбка, сверкавшая белизной зубов, какая-то торжествующая, победоносная улыбка. Кто-то сказал тогда, что ее глаза и улыбка, вспыхнув, рассекают тьму. Другие говорили: “раскольничья богородица”... »
С Волоховой Блок познакомился на репетициях «Балаганчика». В их отношениях много от мучительной страсти, от «упоения» на «краю бездны» (как в пушкинском «Пире во время чумы»), но все, что они переживают, словно происходит под сильным освещением театральных прожекторов.
Невероятно, но именно в начале года Блок по заказу пишет и комментарии к первому тому сочинений Пушкина. Он работал с многочисленными рукописями поэта, сличал печатные редакции его лицейских стихов, искал возможные литературные воздействия на раннего Пушкина. Странное сочетание лирического полета и филологической сосредоточенности в волоховский период творчества для Блока естественно. Его младший современник Георгий Иванов скажет о той черте поэта, без которой его творчество было бы невозможно:
«Блок — самый серафический, самый “неземной” из поэтов — аккуратен и методичен до странности... Почерк у Блока ровный, красивый, четкий. Пишет он не торопясь, уверенно, твердо... — Откуда в тебе это, Саша? - спросил однажды Чулков, никак не могший привыкнуть к блоковской методичности. — Немецкая кровь, что ли? — И передавал удивительный ответ Блока: — Немецкая кровь? Не думаю. Скорее — самозащита от хаоса».
«Защита от хаоса» тем более нужна, когда ощущаешь восторг гибели:
Нет исхода из вьюги,
И погибнуть мне весело,
Завела в очарованный круг,
Серебром своих вьюг занавесила...
И при всем рваном, задыхающемся ритме его стихов внешне он ведет себя уверенно и твердо. Мемуаристы отмечают, что в его облике появилось спокойствие, «сосредо точенная сила», «ничего дряблого». Прежние знакомые с трудом узнают в Блоке недавнего певца «Прекрасной Дамы». Андрей Белый, только-только видевший Блока усталым, измученным, потухшим, поражен его преображением: поэт стал проще и мужественнее. Но и некоторая условность поклонения «Снежной маске» ее рыцаря, «театр в жизни», не миновали глаз современников.
Весной полет прерывается: Волохову ждут гастроли. Итог короткого и бурного времени «Снежной маски» в записной книжке:
«Одна Наталия Николаевна — русская, со своей русской “случайностью”: не знающая, откуда она, гордая, красивая и свободная. С мелкими рабскими привычками и огромной свободой. Как-то мы в августе встретимся? Устали мы, чудовищно устали»...
Летом образ «русской случайности» обрастает новыми чертами:
«...“Коробейники” поются с какой-то тайной грустью. Особенно — “Цены сам платил немалые, не торгуйся, не скупись...” Голос исходит слезами в дождливых далях. Все в этом голосе: просторная Русь, и красная рябина, и цветной рукав девичий, и погубленная молодость. Осенний хмель. Дождь и будущее солнце. В этом будет тайна ее и моего пути. — Так писать пьесу — в этой осени».
В «Снежной деве» Блок готов видеть теперь иное лицо, Фаину из одноименного стихотворного цикла и Фаину из драмы «Песня Судьбы», работать над которой он начинает в апреле 1907.
Театр входит в жизнь Блока и с другой стороны. 20 января умирает отец Любови Дмитриевны, знаменитый химик Менделеев. Небольшое наследство, полученное женой Блока, дает ей возможность всерьез готовиться к сцене: она берет уроки пластики, декламации. Скоро она начнет жизнь актрисы — с разъездами, с неустроенным бытом. Пока же на лето она одна едет в Шахматово, разучивает роли.
В это время поэта настигают иные страсти, он попадает в полосу литературных дрязг и битв. Журнал «Золотое руно», богатое, роскошное издание, выпускавшийся на средства известного капиталиста Н. Рябушинского, переживает трудные времена. Еще недавно он пытался соперничать с «Весами». Здесь печатались почти те же авторы. Но в «Весах» всегда ощущалась твердая рука Брюсова. В «Золотом руне» все было иначе. Рябушинский не хотел ограничиваться ролью мецената, хотя для большего не имел ни должных знаний, ни вкуса. Менялись редакторы, не сумевшие найти с ним общий язык, журнал прошел через несколько кризисов.
На эту ситуацию наложилась сумбурная полемика вокруг «мистического анархизма», главным застрельщиком которого стал Г. Чулков. Свою попытку преодолеть индивидуалистические настроения в символизме он выразил крайне путано. Если социальный анархизм в глазах Чулкова был путем к освобождению человека от внешних норм, от давления государства и общества, а философский анархизм — учением, ведущим к освобождению от всех обязательных норм, в том числе моральных и религиозных, то мистический анархизм — это «учение о путях последнего освобождения, которое заключает в себе последнее утверждение личности в абсолютном». Это освобождение должно было привести приверженцев нового учения к «совместной влюбленности в Мировую Душу».
Чулкова поддержал Вячеслав Иванов. Блок к идеям Чулкова отнесся с тем недоверием, с каким вообще относился ко всякого рода умствованиям. Но московские «Весы» и его как петербуржца причислили к «мистическим анархистам». На «золото- руновцев» Чулкова, Городецкого, Вяч. Иванова и Блока обрушились москвичи: Брюсов, Эллис и Белый. Когда сотрудники «Весов» Брюсов, Белый, Мережковский, Гиппиус, Кузмин и другие в разгар серьезных разногласий между журналами отказались от сотрудничества с взбалмошным Рябушинским, ответ «Золотого руна» прозвучал неожиданно: предложение вести критические обозрения получает Блок. Уже первые его статьи показали, насколько далеки его оценки от каких-либо групповых пристрастий. Он с вниманием всматривается в творчество реалистов, сочувственно отзывается о Горьком. Все это было слишком непривычно для писателей его круга.
Белый, бежавший осенью за границу, перенесший там сложную операцию, вернулся в родные пенаты болезненно раздражительным человеком. Его любовь еще не угасла. Личная драма настолько застила ему глаза, что кипевшую в нем «вражду к Блокам» он перенес в теоретическую область. И очертя голову бросился на «мистический анархизм»: за спиной Чулкова ему мерещилась иная фигура. Энергия, с какой Белый обрушился на того, кого недавно еще считал братом, сам тон его выпадов перешли все рамки приличий.
Читая статьи Блока, Белый не готов был в неожиданных суждениях поэта видеть широту чувств. Его болезненное воображение, к тому же подогреваемое экзальтированным недругом Блока Эллисом, заставляло Белого высматривать в них только ложь и предательство. Все «злые козни» противников находились целиком в мире его больного воображения. В ненормальном своем полемическом задоре Белый никем не понят, но и сам не может понять действительного положения дел, находясь в замкнутом мире тех фантомов, которые создавало его разгоряченное сознание. О своих с Эллисом ощущениях он после заметит: «нам начинало казаться, что Иванов, Блок и Чулков составили заговор: погубить всю русскую литературу». Белому ненавистна вульгарность теории Чулкова, она воспринимается как карикатура на собственные мысли, но и сам он прибегает к недопустимому (до вульгарности!) тону полемики, не чураясь таких выражений, как «обозная сволочь» или «трусливые гиены»...
Прочитав в 5-м номере «Золотого руна» статью Блока «О реалистах», в похвалах Горькому, во внимании к таким второстепенным авторам, как Скиталец, Белый рассмотрел заигрывание с чуждыми символизму силами. В начале августа Белый посылает Блоку оскорбительное письмо, полное самых невообразимых обвинений.
августа из Шахматова Блок в ответ вызывает бывшего друга на дуэль.
Получив вызов, Белый пишет письмо, в котором разом раскрывается подоплека его литературных выходок, звучит искренний тон обиженного человека: «я хотел правды, хотел честно произнесенных слов, а не неопределенно-бездонных молчаний». Он недоумевает, почему Блок своим молчанием поддерживает отвратительный «мистический анархизм». Блок схватывает все, что стоит за строчками: Белый переживает беду. Вопрос о дуэли отпадает. Блок отправляет в «Весы» письмо, разом перечеркнувшее ненужные кривотолки: «Высоко ценя творчество Вячеслава Иванова и Сергея Городецкого, с которыми я попал в общую клетку, я никогда не имел и не имею ничего общего с “мистическим анархизмом”, о чем свидетельствуют мои стихи и проза».
Вероятно, Владислав Ходасевич был прав, когда полагал, что мучительная любовь Белого к жене Блока сыграла роковую роль в истории символизма. В основе полемики лежала вовсе не теоретическая причина. Символизм как течение должно было погубить не различие в теоретических вопросах, а несовпадение судеб его представителей. Они были слишком разные люди. В своем творчестве каждый из них был слишком сам по себе, одному трудно было согласиться со всеми. Раздор пошел по нюансам переживаний и их истолкований. Они не могли объединиться на теории, а общее ослепительно-яркое ощущение, пережитое в самом начале XX века с его «мистическими зорями», не могло удерживать долго в одном мистическом братстве. И когда стало ясно, что эпоха «зорь» минула безвозвратно, они не смогли не попытаться подвести черту под этими несбывшимися надеждами русского символизма. Брюсову, и вовсе чуждому всяким мистическим умонастроениям, такой раздор оказался только на руку: в пылу спора Белый договорился до того, что поставил мэтра рядом с Пушкиным. Полемика обескровила оба символистских издания. Просуществовав до конца 1909, они прекратили существование почти одновременно.
После внятного объяснения с глазу на глаз в личных отношениях Блока и Белого наступает недолгий период взаимопонимания. В октябре 1907 они едут в Киев для участия в литературном вечере. Но через полгода они разом почувствуют взаимное отчуждение и надолго прекратят всякое общение.
Наряду с «метелями» «Снежной маски», наряду с журнальным балаганом, в жизнь Блока входит еще одно событие. Когда-то в ноябре 1906 он написал лирическую статью «Девушка розовой калитки и муравьиный царь». Воспоминания о Бад-Наугейме сплетаются с мыслями о Германии, о легендах Европы, которые уже созданы, уже кончились и состарились: королева, ее пажи, их мечты о «девушке розовой калитки». И рождаются думы о русских поверьях, где заключено «чистое золото» поэзии. Блок вспоминает легенду о муравьином царе, пришедшую из заговоров и заклинаний. Да, Европа — это гармонические линии, нежные тона, томные розы, воздушность, мечта о запредельном, искания невозможного. Россия — это «безобразная история», где «боярские брюхи», где «хлюпает» кровь, «тяжелая, гнилая, болотная». Здесь все земляное, небо — «серое, как мужицкий тулуп». Но...
«Здесь от края и до края — чахлый кустарник. Пропадаешь в нем, а любишь его смертной любовью; выйдешь в кусты, станешь на болоте. И ничего-то больше не надо. Золото, золото где-то в недрах поет».
В конце 1906 поэт предчувствует появление людей «из земли». Осенью 1907 получает письмо от молодого крестьянина Николая Клюева. Завязывается переписка. И хитроватый, редкого таланта крестьянский поэт, как бы угадывая, что хочет слышать от него «кающийся дворянин», пишет о силе людей из народа и той непроходимой меже, которая пролегла между народом и интеллигенцией, которую «...“наш брат” не дичится, а завидует и ненавидит, а если и терпит вблизи себя, то только до тех пор, покуда видит от “вас” какой-либо прибыток ».
Письма Клюева настолько точно попадают в цель, подтверждая тревоги поэта, что он цитирует отрывки одного из них в статье «Литературные итоги 1907 года». Блок обрушивается на писателей, эстетов, религиозно-философские собрания и прочий словесный «кафешантан».
«А на улице — ветер, проститутки мерзнут, люди голодают, людей вешают, а в стране — реакция, а в России — жить трудно, холодно, мерзко. Да хоть бы все эти нововременцы, новопутейцы, болтуны — в лоск исхудали от собственных исканий, никому на свете, кроме “утонченных” натур, не нужных, — ничего в России не убавилось бы и не прибавилось!»
Гибельный пожар, охвативший Блока на пороге 1908, разрешается началом его народничества. И настойчивое требование Блока, обращенное к литературе, говорить о главном, и стремление разделаться со своим прошлым, и его внимание к людям «из земли» выплеснулось в статьи 1908 года. Тон его прозы иногда приближается к тону проповеди:
«... Символическая школа была только мечтой, фантазией, выдумкой или надеждой некоторых представителей “нового искусства”, но никогда не существовала в русской действительности...»;
«.Только то, что было исповедью писателя, только то создание, в котором он сжег себя дотла, — только оно может стать великим. Если эта сожженная душа... огромна, она волнует не одно поколение, не один народ и не одно столетие. Если она и не велика, то рано ли, поздно ли она должна взволновать, по крайней мере, своих современников...»;
«К вечной заботе художника о форме и содержании присоединяется новая забота о долге... В сознании долга, великой ответственности и связи с народом и обществом, художник находит силу ритмически идти единственно необходимым путем ».
Он пишет о пути художника от людей и к людям («Об Ибсене»), о растленности модных «вечеров искусств», о страшной, смертельной душевной болезни его времени — иронии.
Но все пережитое после краха прежней жизни соединяется в едином замысле. В 1908 Блок бьется над новой драмой «Песня Судьбы». Герой покидает родной дом, жену, мать, чтобы идти «в жизнь»; встречается с раскольницей Фаиной, через служение которой познает новое ощущение мира; наконец, оставленный ею, тонет в метели. В конце пьесы, как спасение героя, звучит песнь коробейника (строки из знаменитой поэмы Некрасова: «Ох, полным-полна коробушка...»).
Контур собственного пути поэтом начертан, но герои Блока так и не смогли ожить. Образ Фаины обретает черты раскольницы, «Снежной маски», цыганки, циркачки. Он двоится, троится, расслаивается на все большее число лиц. Вопросы, мучившие Блока, пока не сводились воедино.
Когда пьеса была уже готова, Блок вдруг ощутил накат лирической волны. Так родился стихотворный цикл «На поле Куликовом» — одно из знаменитейших творений поэта. Здесь звучит знакомое обращение: «Ты», но за этим местоимением мы не обнаружим ни Прекрасной Дамы, ни Незнакомки. Конечно, отблеск прежних стихов в этом «Ты» сохранился, потому и обращение к Родине в первом стихотворении столь необычно: «О, Русь моя! Жена моя! До боли нам ясен долгий путь». Не родина-мать, а Русь-Жена. Но это — Жена, которая пишется с прописной буквы, в ней — тоже «вечно-женственное» начало, что и в ранних стихах. В третьем стихотворении цикла, где ощущения воина в ночь перед битвой сливаются с ощущением поэта, который смотрит в глубь родной истории, среди полей, лебединых криков, у темного Дона, где чуткое ухо Блока различает далекие материнские стенания («И вдали, вдали о стремя билась, голосила мать») является «Она»:
И с туманом над Непрядвой спящей,
Прямо на меня
Ты сошла, в одежде свет струящей,
Не спугнув коня.
Даниил Андреев, сын писателя Леонида Андреева, поэт и философ-мистик, в комментариях к этому стихотворению не удержался от восклицания: «Кто и когда так ясно, так точно, так буквально писал о Ней, о великой вдохновительнице, об идеальной душе России, о ее нисхождении в сердца героев, в судьбы защитников родины, ее поэтов, творцов и мучеников?»
Душа России сходит в душу поэта-воина и сближается с образом Богородицы, которую народ испокон веку считал заступницей своей родины:
И когда наутро, тучей черной Двинулась орда,
Был в щите
Твой лик нерукотворный Светел навсегда.
Еще в стихотворении «Девушка пела в церковном хоре...», в строках которого угадывался отклик поэта на Цусимское сражение и гибель русской эскадры во время войны с Японией, прозвучала горькая молитва о России. В «куликовском» цикле горячая боль поэта за судьбы родины становится явственной. Цикл «На поле Куликовом» не только о великом историческом прошлом, но и о грядущих испытаниях. Тревога пронизывает уже первое стихотворение:
Закат в крови!
Из сердца кровь струится!
Плачь, сердце, плачь...
Покоя нет! Степная кобылица Несется вскачь!
Последнее стихотворение цикла возвращает к этому же тревожному предчувствию, и, хотя заканчивается восклицательным знаком, за ним ощущается смысловое многоточие:
Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
Доспех тяжел, как перед боем.
Теперь твой час настал. — Молись!
Эти стихи были написаны в 1908. Через шесть лет Первая мировая война — первая вестница необратимых мировых перемен.
Лирическая волна стихов «На поле Куликовом» докатилась и до «Песни Судьбы». Блок опять возвращается к многострадальному своему созданию. В новом фрагменте, вписанном в уже законченную драму, его герой вдруг вспоминает великое русское прошлое. Но образы из цикла «На поле Куликовом», вписавшись в драму, еще более запутали основную идею произведения. Блок любил свою «Песнь Судьбы», как мать любит больное дитя. И лишь через много лет, вернувшись к пьесе, вдруг решит, что это совершенно «дурацкое» произведение.
Неудача драмы искупалась лирикой и публицистикой. Конец 1908 принес два доклада Блока, прочитанных в Религиозно-философском обществе и затем переработанных в статьи: «Россия и интеллигенция» и «Стихия и культура». Блок говорит о той же неодолимой черте, которая пролегла между «несколькими сотнями тысяч», с одной стороны, и «полуторастами миллионов» — с другой. Он вспоминает гоголевскую «Русь-тройку», и провидит как неотвратимость: «Что, если тройка, вокруг которой “гремит и становится ветром разорванный воздух”, — летит прямо на нас... Можно даже представить себе, как бывает в страшных кошмарах, что тьма происходит оттого, что над нами повисла косматая грудь коренника и готовы опуститься тяжелые копыта». И, как и должно для петербуржца, миф о «Медном всаднике» (в «тяжелых копытах» коренника просвечивает и этот образ) соединяет стихию народного бунта со стихией наводнений — стихией природной. Вторая статья напоминает о страшном землетрясении в Мессине, когда в мгновение гибнет долговременное создание рук человеческих, и провидит грядущие катастрофы: «Мы еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа».
Тема России не отпускает Блока, и на исходе года рождаются не только последние стихотворения из цикла «На поле Куликовом», но и стихотворение «Россия»:
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!..
Появляется и мрачное в своем совершенстве стихотворение, в звуках которого оживает предчувствие ближайшего будущего:
Вот он — ветер,
Звенящий тоскою острожной,
Над бескрайною топью Огонь невозможный,
Распростершийся призрак Ветлы придорожной...
Вот — что ты мне сулила:
Могила.
Тему подхватывает стихотворение «Осенний день» («Идем по жнивью, не спеша...»), написанное в Новый год с тем же безошибочным чувством родины:
... И низких нищих деревень Не счесть, не смерить оком,
И светит в потемневший день Костер в лугу далеком...
О, нищая моя страна,
Что ты для сердца значишь?
О, бедная моя жена,
О чем ты горько плачешь?
За обращением к жене — новый поворот в судьбе Блока.
В конце ноября 1908 в записной книжке поэта появляется набросок так и не осуществленной драмы.
«Писатель. Кабинет с тяжелыми занавесками на окнах. Книги. Цветы. Духи. Женщина. Он — все понимающий. Она живет обостренной духовной жизнью. Глаза полузакрыты, зубы блестят сквозь полуоткрытые губы. Тушит огонь, открывает занавеску. Чужая улица, чужая жизнь. Тонкие мысли.
Посетители.
Ждет жену, которая писала веселые письма и перестала.
Возвращение жены. Ребенок. Он понимает. Она плачет.
Он заранее все понял и простил. Об этом она и плачет. Она поклоняется ему, считает его лучшим человеком и умнейшим...»
После описания душевной неустроенности героя, его тоски, мыслей о самоубийстве, надежд на Россию — заключительная фраза, которую Блок подчеркнул: «А ребенок растет».
Предтеча этого замысла — личные переживания, возвращение Любови Дмитриевны, ребенок, который родился 2 февраля и был назван в честь знаменитого дедушки-химика Дмитрием. Блок чувствует воодушевление, нежность, иногда он почти счастлив. Но, прожив неделю, мальчик умирает. Потемневший Блок чувствует себя усталым, потерянным. На смерть Мити он откликнется горьким стихотворением:
... Я подавлю глухую злобу,
Тоску забвению предам.
Святому маленькому гробу Молиться буду по ночам...
В статье «Душа писателя», написанной в этот тяжелый месяц, не могло не сорваться: «Писательская судьба — трудная, жуткая, коварная судьба». В целом статья — это попытка через судьбою добытые истины подвести итог своему прошлому. Писатель должен напрягать внутренний слух, дабы уловить «мировой оркестр» души народной. В этом его единственное оправдание. Без этой самоотдачи и этой глубинной музыкальности литература становится, в сущности, праздным занятием. И только те, «кто исполнен музыкой, услышат вздох всеобщей души, если не сегодня, то завтра»...
После напряжения последних лет Блоку нужно забыться. 14 апреля они с Любовью Дмитриевной уезжают за границу. Они путешествуют по Италии и Германии. От Италии впечатлений много, но общее ощущение более чем критическое: «самая нелирическая страна». После нее в Германии он нашел «лиризм», близкую его духу готику, музыку Вагнера. И все-таки в Россию он возвращается уставшим. Его письмо-исповедь, посланное из-за границы матери, объясняет многое:
«Люди мне отвратительны, вся жизнь ужасна. Европейская жизнь так же мерзка, как и русская, — вообще вся жизнь людей во всем мире есть, по-моему, какая-то чудовищная грязная лужа... Мне хотелось бы очень тихо пожить и подумать — вне городов, кинематографов, ресторанов, итальянцев и немцев. Все это — одна сплошная помойная яма... Более чем когда-нибудь я вижу, что ничего из жизни современной я до сих пор не приму и ничему не покорюсь. Ее позорный строй внушает мне только отвращение. Переделать уже ничего нельзя, не переделает никакая революция. Все люди сгниют, несколько человек останется. Люблю я только искусство, детей и смерть. Россия для меня, — все та же лирическая величина. На самом деле — ее нет, не было и не будет».
Блок чувствует, что ему не для чего жить. Ему тягостен круг людей, которому он обречен (в записной книжке — «вот уже три-четыре года я втягиваюсь незаметно для себя в атмосферу людей, совершенно чуждых мне»), ему претит литература как стиль жизни («отказаться от литературного заработка и найти другой»). Но литература неотступно следует за ним. Вместо «Весов» и «Золотого руна» на сцену выходит новый журнал с большим будущим — «Аполлон». Античное название требовало и определенных имен. Выдающимися учеными-античниками были и поэт Вяч. Иванов, и И. Анненский, и Ф. Зелинский. Все они вошли в совет «Общества ревнителей художественного слова», которое было организовано при журнале. В совет выбраны были также редактор журнала Сергей Маковский, Михаил Кузмин и Александр Блок. Напечатанные в первом номере журнала «Итальянские стихи» Блока были восприняты многими старыми знакомыми с воодушевлением.
Но история «Аполлона» началась трагически. Иннокентий Анненский, для многих современников остававшийся лицом неувиденным (одни знали его как педагога, филолога, знатока античности, другие как переводчика Еврипида, третьи как автора тонких, редкого вкуса критических статей, и очень мало кто знал его лирику), давно стремился оставить педагогическое поприще и посвятить себя только литературному труду. Но его первая критическая статья о современной лирике произвела столь неожиданное впечатление на поэтов, близких журналу (вплоть до нелепых обид), что Анненский почувствовал и теневую сторону жизни литератора. Ощутил он на себе и редакторский произвол: публикацию его стихов Маковский отложил до следующего номера. Переживания, связанные с отставкой на педагогическом поприще, и разочарование в литературной жизни возымели действие. 30 ноября 1909 Иннокентий Анненский падает замертво от внезапного паралича сердца у подъезда Царскосельского вокзала. Известие об этой смерти застает Блока в Варшаве. Из письма к жене можно понять, насколько он поражен внезапной для него смертью Анненского. И кроме того, оказывается, он знал почти обо всем, что делал в последнее время этот поэт (фраза о двух «кни-гах»). Значит, Блок знал не только о стихах «Кипарисового ларца» (эта книга Анненского выйдет в 1910), но и о тех, которые войдут в «Посмертный сборник» и появятся лишь в 1923?
В Варшаве Блок оказался в связи со смертью отца.
Полезный материал по теме: