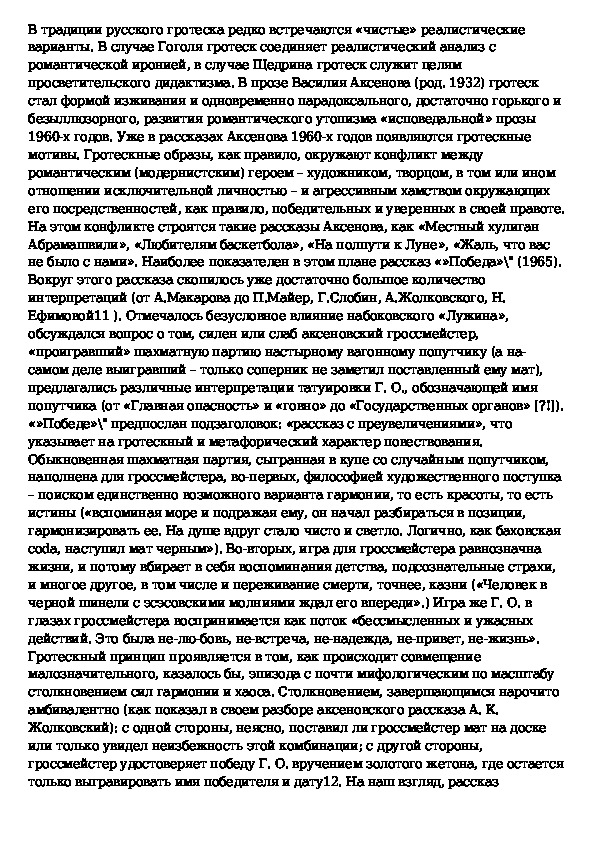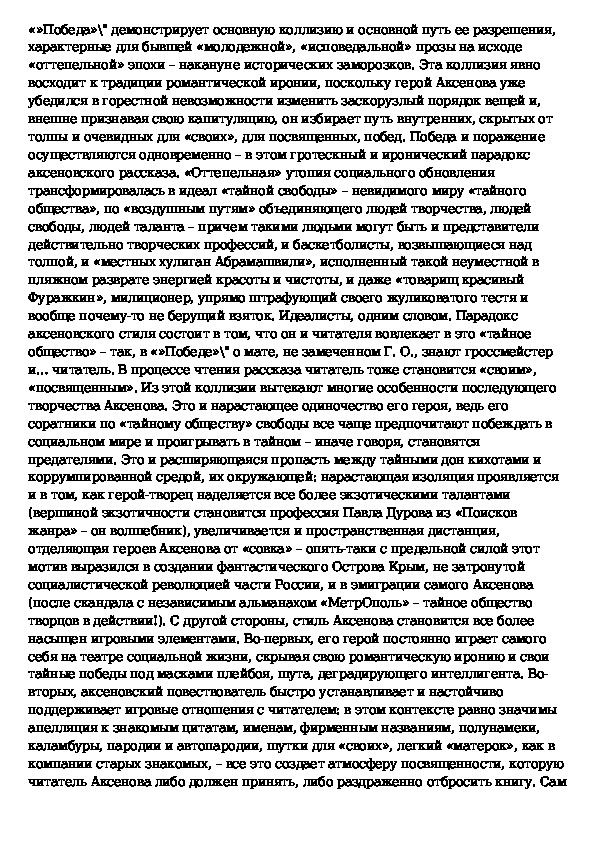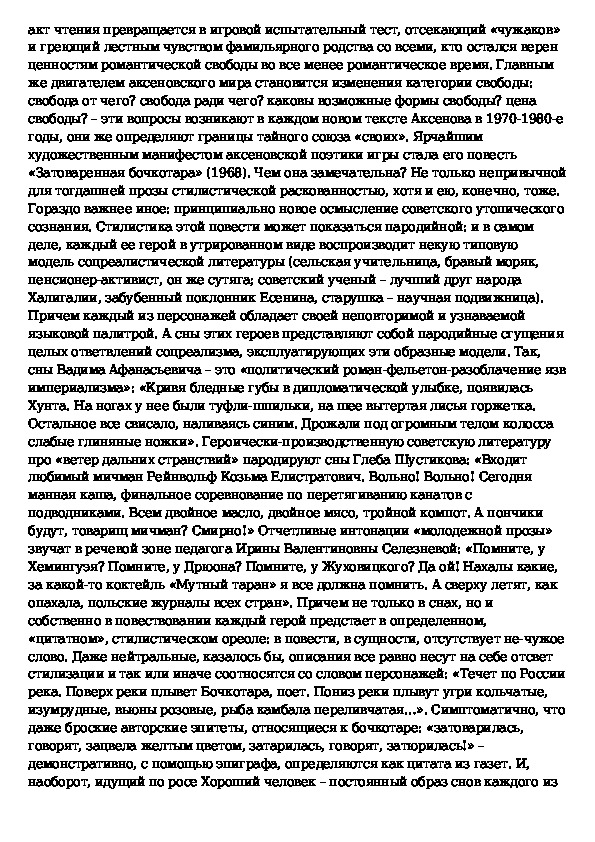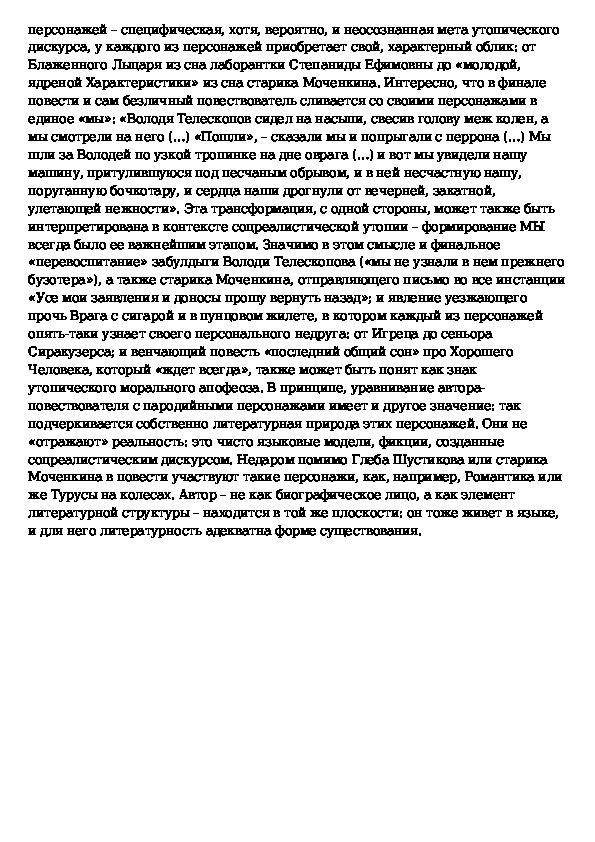Сочинение на тему Социально-психологический гротеск: В. Аксенов
Здесь Вы можете ознакомиться и скачать Сочинение на тему Социально-психологический гротеск: В. Аксенов.
Если материал и наш сайт сочинений Вам понравились - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок! В традиции русского гротеска редко встречаются «чистые» реалистические варианты. В случае Гоголя гротеск соединяет реалистический анализ с романтической иронией, в случае Щедрина гротеск служит целям просветительского дидактизма. В прозе Василия Аксенова (род. 1932) гротеск стал формой изживания и одновременно парадоксального, достаточно горького и безыллюзорного, развития романтического утопизма «исповедальной» прозы 1960-х годов.
Уже в рассказах Аксенова 1960-х годов появляются гротескные мотивы. Гротескные образы, как правило, окружают конфликт между романтическим (модернистским) героем – художником, творцом, в том или ином отношении исключительной личностью – и агрессивным хамством окружающих его посредственностей, как правило, победительных и уверенных в своей правоте. На этом конфликте строятся такие рассказы Аксенова, как «Местный хулиган Абрамашвили», «Любителям баскетбола», «На полпути к Луне», «Жаль, что вас не было с нами». Наиболее показателен в этом плане рассказ «»Победа»\" (1965).
Вокруг этого рассказа скопилось уже достаточно большое количество интерпретаций (от А.Макарова до П.Майер, Г.Слобин, А.Жолковского, Н. Ефимовой11 ). Отмечалось безусловное влияние набоковского «Лужина», обсуждался вопрос о том, силен или слаб аксеновский гроссмейстер, «проигравший» шахматную партию настырному вагонному попутчику (а на- самом деле выигравший – только соперник не заметил поставленный ему мат), предлагались различные интерпретации татуировки Г. О., обозначающей имя попутчика (от «Главная опасность» и «говно» до «Государственных органов» [?!]). «»Победе»\" предпослан подзаголовок: «рассказ с преувеличениями», что указывает на гротескный и метафорический характер повествования. Обыкновенная шахматная партия, сыгранная в купе со случайным попутчиком, наполнена для гроссмейстера, во-первых, философией художественного поступка – поиском единственно возможного варианта гармонии, то есть красоты, то есть истины («вспоминая море и подражая ему, он начал разбираться в позиции, гармонизировать ее. На душе вдруг стало чисто и светло. Логично, как баховская coda, наступил мат черным»). Во-вторых, игра для гроссмейстера равнозначна жизни, и потому вбирает в себя воспоминания детства, подсознательные страхи, и многое другое, в том числе и переживание смерти, точнее, казни («Человек в черной шинели
с эсэсовскими молниями ждал его впереди».) Игра же Г. О. в глазах гроссмейстера воспринимается как поток «бессмысленных и ужасных действий. Это была не-лю-бовь, не-встреча, не-надежда, не-привет, не-жизнь». Гротескный принцип проявляется в том, как происходит совмещение малозначительного, казалось бы, эпизода с почти мифологическим по масштабу столкновением сил гармонии и хаоса. Столкновением, завершающимся нарочито амбивалентно (как показал в своем разборе аксеновского рассказа А. К. Жолковский): с одной стороны, неясно, поставил ли гроссмейстер мат на доске или только увидел неизбежность этой комбинации; с другой стороны, гроссмейстер удостоверяет победу Г. О. вручением золотого жетона, где остается только выгравировать имя победителя и дату12.
На наш взгляд, рассказ «»Победа»\" демонстрирует основную коллизию и основной путь ее разрешения, характерные для бывшей «молодежной», «исповедальной» прозы на исходе «оттепельной» эпохи – накануне исторических заморозков. Эта коллизия явно восходит к традиции романтической иронии, поскольку герой Аксенова уже убедился в горестной невозможности изменить заскорузлый порядок вещей и, внешне признавая свою капитуляцию, он избирает путь внутренних, скрытых от толпы и очевидных для «своих», для посвященных, побед. Победа и поражение осуществляются одновременно – в этом гротескный и иронический парадокс аксеновского рассказа. «Оттепельная» утопия социального обновления трансформировалась в идеал «тайной свободы» – невидимого миру «тайного общества», по «воздушным путям» объединяющего людей творчества, людей свободы, людей таланта – причем такими людьми могут быть и представители действительно творческих профессий, и баскетболисты, возвышающиеся над толпой, и «местных хулиган Абрамашвили», исполненный такой неуместной в пляжном разврате энергией красоты и чистоты, и даже «товарищ красивый Фуражкин», милиционер, упрямо штрафующий своего жуликоватого тестя и вообще почему-то не берущий взяток. Идеалисты, одним словом. Парадокс аксеновского стиля состоит в том, что он и читателя вовлекает в это «тайное общество» – так, в «»Победе»\" о мате, не замеченном Г. О., знают гроссмейстер и… читатель. В процессе чтения рассказа читатель тоже становится «своим», «посвященным».
Из этой коллизии вытекают многие особенности последующего творчества Аксенова. Это и нарастающее одиночество его героя, ведь его соратники по «тайному обществу» свободы все чаще предпочитают побеждать в социальном мире и проигрывать в тайном – иначе говоря, становятся предателями. Это и расширяющаяся пропасть между тайными дон кихотами и коррумпированной средой, их окружающей: нарастающая изоляция проявляется и в том, как герой-творец наделяется все более экзотическими талантами (вершиной экзотичности становится профессия Павла Дурова из «Поисков жанра» – он волшебник), увеличивается и пространственная дистанция, отделяющая героев Аксенова от «совка» – опять-таки с предельной силой этот мотив выразился в создании фантастического Острова Крым, не затронутой социалистической революцией части России, и в эмиграции самого Аксенова (после скандала с независимым альманахом «МетрОполь» – тайное общество творцов в действии!).
С другой стороны, стиль Аксенова становится все более насыщен игровыми элементами. Во-первых, его герой постоянно играет самого себя на театре социальной жизни, скрывая свою романтическую иронию и свои тайные победы под масками плейбоя, шута, деградирующего интеллигента. Во-вторых, аксеновский повествователь быстро устанавливает и настойчиво поддерживает игровые отношения с читателем: в этом контексте равно значимы апелляция к знакомым цитатам, именам, фирменным названиям, полунамеки, каламбуры, пародии и автопародии, шутки для «своих», легкий «матерок», как в компании старых знакомых, – все это создает атмосферу посвященности, которую читатель Аксенова либо должен принять, либо раздраженно отбросить книгу. Сам акт чтения превращается в игровой испытательный тест, отсекающий «чужаков» и греющий лестным чувством фамильярного родства со всеми, кто остался верен ценностям романтической свободы во все менее романтическое время.
Главным же двигателем аксеновского мира становится изменения категории свободы: свобода от чего? свобода ради чего? каковы возможные формы свободы? цена свободы? – эти вопросы возникают в каждом новом тексте Аксенова в 1970-1980-е годы, они же определяют границы тайного союза «своих».
Ярчайшим художественным манифестом аксеновской поэтики игры стала его повесть «Затоваренная бочкотара» (1968). Чем она замечательна? Не только непривычной для тогдашней прозы стилистической раскованностью, хотя и ею, конечно, тоже. Гораздо важнее иное: принципиально новое осмысление советского утопического сознания.
Стилистика этой повести может показаться пародийной: и в самом деле, каждый ее герой в утрированном виде воспроизводит некую типовую модель соцреалистической литературы (сельская учительница, бравый моряк, пенсионер-активист, он же сутяга; советский ученый – лучший друг народа Халигалии, забубенный поклонник Есенина, старушка – научная подвижница). Причем каждый из персонажей обладает своей неповторимой и узнаваемой языковой палитрой. А сны этих героев представляют собой пародийные сгущения целых ответвлений соцреализма, эксплуатирующих эти образные модели. Так, сны Вадима Афанасьевича – это «политический роман-фельетон-разоблачение язв империализма»: «Кривя бледные губы в дипломатической улыбке, появилась Хунта. На ногах у нее были туфли-шпильки, на шее вытертая лисья горжетка. Остальное все свисало, наливаясь синим. Дрожали под огромным телом колосса слабые глиняные ножки». Героически-производственную советскую литературу про «ветер дальних странствий» пародируют сны Глеба Шустикова: «Входит любимый мичман Рейнвольф Козьма Елистратович. Вольно! Вольно! Сегодня манная каша, финальное соревнование по перетягиванию канатов с подводниками. Всем двойное масло, двойное мясо, тройной компот. А пончики будут, товарищ мичман? Смирно!» Отчетливые интонации «молодежной прозы» звучат в речевой зоне педагога Ирины Валентиновны Селезневой: «Помните, у Хемингуэя? Помните, у Дрюона? Помните, у Жуховицкого? Да ой! Нахалы какие, за какой-то коктейль «Мутный таран» я все должна помнить. А сверху летят, как опахала, польские журналы всех стран». Причем не только в снах, но и собственно в повествовании каждый герой предстает в определенном, «цитатном», стилистическом ореоле: в повести, в сущности, отсутствует не-чужое слово. Даже нейтральные, казалось бы, описания все равно несут на себе отсвет стилизации и так или иначе соотносятся со словом персонажей: «Течет по России река. Поверх реки плывет Бочкотара, поет. Пониз реки плывут угри кольчатые, изумрудные, вьюны розовые, рыба камбала переливчатая…». Симптоматично, что даже броские авторские эпитеты, относящиеся к бочкотаре: «затоварилась, говорят, зацвела желтым цветом, затарилась, говорят, затюрилась!» – демонстративно, с помощью эпиграфа, определяются как цитата из газет. И, наоборот, идущий по росе Хороший человек – постоянный образ снов каждого из персонажей – специфическая, хотя, вероятно, и неосознанная мета утопического дискурса, у каждого из персонажей приобретает свой, характерный облик: от Блаженного Лыцаря из сна лаборантки Степаниды Ефимовны до «молодой, ядреной Характеристики» из сна старика Моченкина.
Интересно, что в финале повести и сам безличный повествователь сливается со своими персонажами в единое «мы»:
«Володя Телескопов сидел на насыпи, свесив голову меж колен, а мы смотрели на него (…) «Пошли», – сказали мы и попрыгали с перрона (…) Мы шли за Володей по узкой тропинке на дне оврага (…) и вот мы увидели нашу машину, притулившуюся под песчаным обрывом, и в ней несчастную нашу, поруганную бочкотару, и сердца наши дрогнули от вечерней, закатной, улетающей нежности».
Эта трансформация, с одной стороны, может также быть интерпретирована в контексте соцреалистической утопии – формирование МЫ всегда было ее важнейшим этапом. Значимо в этом смысле и финальное «перевоспитание» забулдыги Володи Телескопова («мы не узнали в нем прежнего бузотера»), а также старика Моченкина, отправляющего письмо во все инстанции «Усе мои заявления и доносы прошу вернуть назад»; и явление уезжающего прочь Врага с сигарой и в пунцовом жилете, в котором каждый из персонажей опять-таки узнает своего персонального недруга: от Игреца до сеньора Сиракузерса; и венчающий повесть «последний общий сон» про Хорошего Человека, который «ждет всегда», также может быть понят как знак утопического морального апофеоза.
В принципе, уравнивание автора-повествователя с пародийными персонажами имеет и другое значение: так подчеркивается собственно литературная природа этих персонажей. Они не «отражают» реальность: это чисто языковые модели, фикции, созданные соцреалистическим дискурсом. Недаром помимо Глеба Шустикова или старика Моченкина в повести участвуют такие персонажи, как, например, Романтика или же Турусы на колесах. Автор – не как биографическое лицо, а как элемент литературной структуры – находится в той же плоскости: он тоже живет в языке, и для него литературность адекватна форме существования.
Отправить на email или скачать Сочинение на тему Социально-психологический гротеск: В. Аксенов можно с помощью кнопок
ниже.
Похожие сочинения